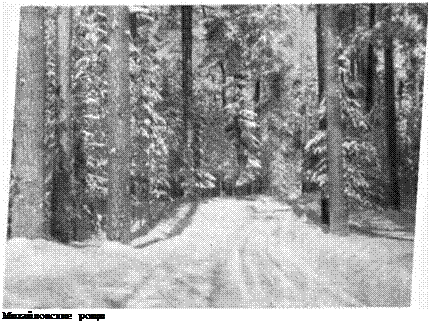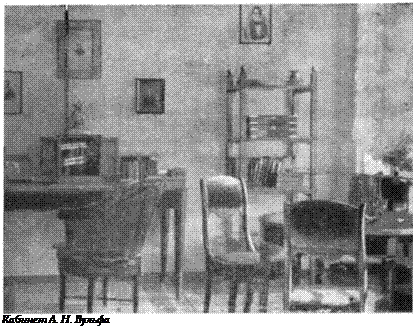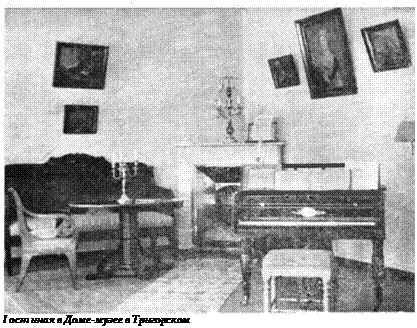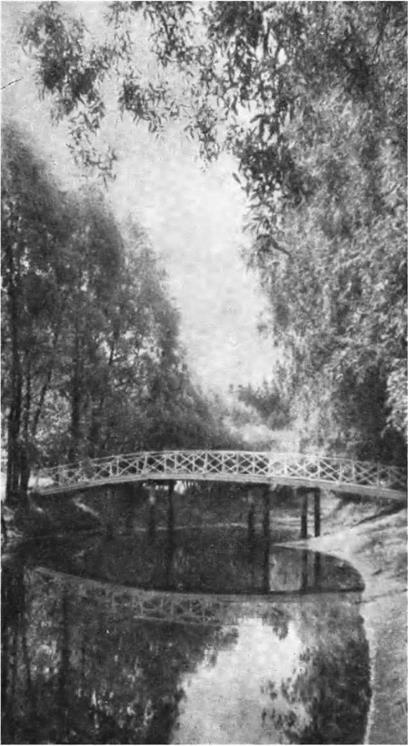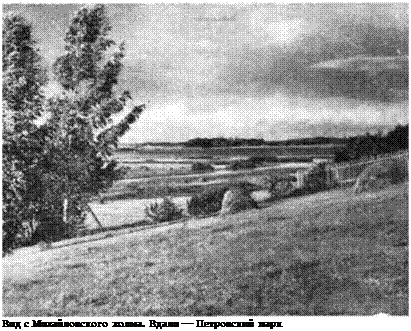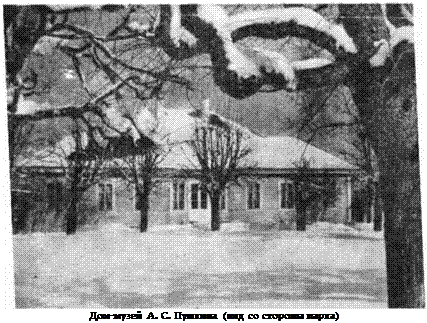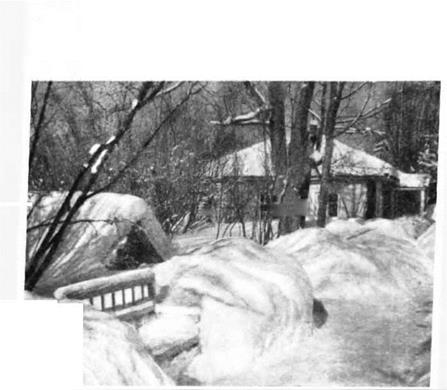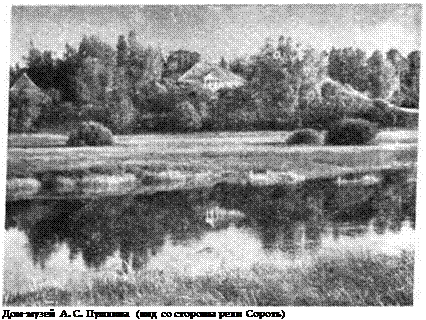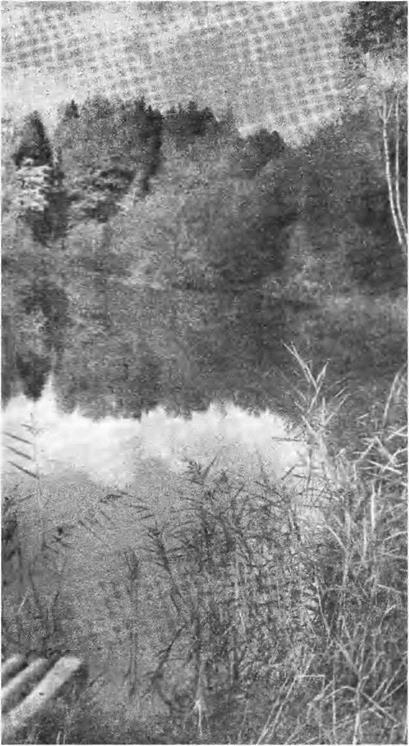В ста километрах к юго-востоку от Пскова, на автостраде Ленинград — Киев, стоит старинная русская деревенька Новгородка, от которой влево убегает асфальтовая лента шоссе. И уже отсюда, за два десятка километров, в ясную погоду видна впереди гряда лесистых холмов. На самом высоком из них, на темном фоне хвойных лесов, отчетливо выделяется белокаменный Успенский собор Святогорского монастыря, у стен которого похоронен Пушкин. А неподалеку, в двух-трех километрах друг от друга, знаменитые усадьбы Михайловское и Тригорское, ганнибаловская вотчина Петровское, древние городища Воронин и Савкина Горка. Сегодня все эти места, овеянные гением поэта, составляют Пушкинский Государственный Заповедник.
Александр Сергеевич Пушкин — «величайшая гордость наша и самое полное выражение духовных сил России» (А. М. Горький) —дорог каждому советскому человеку. Бессмертная поэзия его, в которой, по словам В. Г. Белинского, «бьется пульс русской жизни», стала неотъемлемой частью нашей социалистической культуры. Произведения Пушкина, хорошо знакомые нам с детства, помогают формировать наши первые эстетические впечатления, воспитывать литературный вкус, учат чувствовать и понимать красоту худо-
|
А. С. Пушкин. Портрет работы художника О. Кипренского. 1827 год |
жественного слова. Нас продолжают волновать патриотизм гениального поэта, его свободолюбие, во имя которого он в крепостнической «сумрачной России» смог всю свою жизнь
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому Служить и угождать; для власти, для ливреи Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи…
«Из Пиндемонти»
«…Губерния Псковская, теплица юных дней» поэта, места, где «текли часы трудов» его «свободно-вдохновенных», воспеты во многих пушкинских строчках и неотделимы от его творческой биографии.
Дважды побывав в псковской деревне до михайловской ссылки и несколько раз после нее, Пушкин создал здесь более ста художественных произведений. Через всю свою жизнь, через всю поэзию пронес он немеркнущую, необъятную и глубокую любовь к этой «обители дальней трудов и чистых нег». Вот почему сегодня пушкинские места стали заповедными и бережно охраняются нашим народом, вот почему почитателей Пушкина так живо интересует история этого уголка.
В начале XVIII века среди земель, которыми владела царская семья на Псковщине, была обширная вотчина — Михайловская Губа. После смерти последней ее владелицы, племянницы Петра I Екатерины Ивановны (дочери брата Петра I Ивана Алексеевича), Михайловская Губа была приписана к дворцовым землям.
Когда на престол взошла дочь Петра I императрица Елизавета Петровна, она стала щедро одарять тех соратников и сподвижников своего отца, которые после его смерти долгое время находились в опале. В числе их был и знаменитый Абрам Петрович Ганнибал, прадед великого русского поэта. Указом Елизаветы от 12 января 1742 года ему была пожалована большая часть Михайловской Губы, а в 1746 году он получил за подписью Елизаветы жалованную грамоту на это владение.
По ревизской переписи 1744 года А. П. Ганнибалу в Михайловской Губе принадлежала 41 деревня, в которых проживало более восьмисот крепостных крестьян.
После смерти А. П. Ганнибала (1781 год) Михайловская Губа была поделена по раздельной записи между его тремя сыновьями: «деревню Кучане, что ныне сельцо Петровское» с
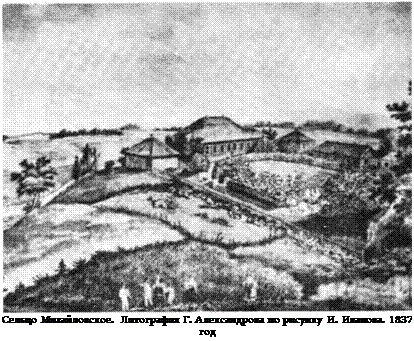
деревнями получил Петр Абрамович Ганнибал, «деревню Оклад, что ныне называется сельцо Воскресенское» с деревнями — Исаак Абрамович Ганнибал, «деревню Устье, что ныне называется сельцо Михайловское» с деревнями — Осип Абрамович Ганнибал. Выйдя с военной службы в отставку, он последние годы жизни (умер в 1806 году) провел почти безвыездно в Михайловском, в котором в конце XVIII века и создал усадьбу: воздвигнул барский дом, разбил парк.
После смерти О. А. Ганнибала Михайловское наследовала его семья — жена Мария Алексеевна и дочь Надежда Осиповна, мать поэта. Н. О. Пушкина после смерти своей матери (в 1816 году) осталась единственной владелицей
имения. А когда в 1836 году умерла Надежда Осиповна, Михайловским стали владеть ее дети: Ольга, Лев и Александр.
После гибели поэта Михайловское стало собственностью его детей: сыновей Александра и Григория и дочерей Марии и Наталии. В 1860 году в Михайловском поселился младший сын поэта Григорий Александрович. К этому времени старый ганнибаловский барский дом обветшал настолько, что Г. А. Пушкин продал его на слом, построив на том же месте новый, несколько иной архитектуры. Впоследствии этот дом дважды — в 1908 и в 1918 году — горел, но каждый раз восстанавливался (в 1908—1911 годах по проекту архитектора академика А. В. Щуко) в том виде, какой он принял при Г. А. Пушкине.
Близился столетний юбилей со дня рождения поэта. Прогрессивная общественность России готовилась отметить его. В связи с этим значительно повысился интерес к Михайловскому.
И по настоянию передовых кругов тогдашнего общества было решено выкупить имение у наследников А. С. Пушкина и создать там в честь памяти поэта какое-нибудь благотворительное заведение. Однако в царской казне денег на приобретение Михайловского не оказалось, и пришлось по всем российским «городам и весям» объявить сбор пожертвований. Большая часть необходимых средств была собрана у простого народа. В 1899 году село Михайловское было куплено у Г. А. Пушкина казной и передано в ведение псковского дворянства.
В 1901 году было решено создать здесь благотворительное заведение — колонию для престарелых литераторов, которая была открыта лишь в 1911 году.
До Великого Октября пушкинский уголок находился в жалком состоянии. Посетивший в 1898 году Святогорский монастырь и могилу А. С. Пушкина В. П. Острогорский с грустью отмечал то небрежение, в котором содержалась даже могила великого поэта: «Ничья заботли-
вая рука, как видно, не прикасается к памятнику. Покосившийся обелиск порастает травой, грязен и испещрен надписями посетителей». Мало того, монахи Святогорского монастыря выгодно продавали различным лицам участки земли для будущих могил в непосредственной близости от места погребения Пушкина.
Летом 1917 года крестьяне Воронической волости, в которую входило и село Михайловское, обратились в Совет рабочих и солдатских депутатов с ходатайством об изъятии у псковского дворянства села Михайловского и передаче его в общегосударственное ведение, а также о разрешении устроить в селе Михайловском на собранные народом деньги «Всероссийский университет имени А. С. Пушкина с низшим, средним и высшим отделением», где люди из народа могли бы бесплатно получать образование.
После Великой Октябрьской социалистической революции в пушкинские места пришел настоящий, заботливый хозяин — народ. Уже в первые годы Советской власти Псковский губ — исполком занимался восстановлением и реставрацией этого ценнейшего памятника русской культуры.
В 1920 году при участии стоявших в окрестностях Михайловского частей Красной Армии был реставрирован домик няни. А осенью 1921 года для обследования мер по надлежащей охране пушкинского уголка Псковский губернский отдел народного образования командировал туда специалиста, который представил в губис — полком обстоятельный доклад о плачевном состоянии после гражданской войны пушкинских мест, особенно Михайловского и Тригорского. В докладе говорилось, что «от обеих усадеб остались каменные фундаменты и груды обгорелого мусора… Самый парк зарос и заглох, фруктовый сад одичал». На основании этого доклада Псковский губисполком 11 ноября 1921 года принял решение об охране пушкинских мест в Опочецком уезде Псковской губернии. В этом решении гово-
рилось: «Обратиться в Наркомпрос РСФСР
с ходатайством об объявлении пушкинского уголка заповедным имением и взять его под охрану как исторический памятник, имеющий значение для всей республики».
Ходатайство местных псковских властей встретило горячую поддержку наркома просвещения А. В. Луначарского, который 2 марта 1922 года и подготовил проект постановления под названием «О национализации усадеб Михайловское и Тригорское, а также места погребения А. С. Пушкина в Святогорском монастыре». Отправляя проект в тот же день в наркомат земледелия, А. В. Луначарский просил срочно дать заключение на него и отправить в правительство.
Уже 17 марта 1922 года на распорядительном заседании Малого Совнаркома РСФСР проект был рассмотрен (докладчиком был А. В. Луначарский), и в протоколе было записано: «Объявить Пушкинский Уголок: Михайловское и Тригорское, а также место погребения А. С. Пушкина в Святогорском монастыре Заповедным имением с передачей его под охрану, как исторического памятника, НК просвещения по Главмузею. Границу этого имения определить Народному Комиссариату Просвещения по соглашению с Народным Комиссариатом Земледелия».
Накануне столетнего юбилея со дня гибели поэта, который широко отмечался всей страной, в Михайловском был восстановлен бывший господский дом, и вскоре в нем был открыт Дом — музей А. С. Пушкина. В это же время в состав Пушкинского Заповедника были включены связанные с именем Пушкина село Петровское, древние городища Воронин и Савкина Горка и вся территория бывшего Святогорского монастыря. Теперь территория Пушкинского Заповедника составляет более семисот гектаров.
Во время оккупации гитлеровцы расхитили многие музейные ценности, вырубили сотни де-
ревьев в заповедном лесу и парках. Перед отходом из Михайловского фашисты завершили разорение и осквернение усадьбы поэта: сожгли Дом-музей, из двух других домов у въезда на усадьбу один сожгли, а другой сильно повредили, прострелили в трех местах большой портрет Пушкина, который висел на арке у входа в Михайловское, а саму арку уничтожили, взорвали колокольню Успенского собора Святогорского монастыря-музея, уничтожили домик няни. Под дорогу, ведущую к могиле Пушкина, фашистские варвары вырыли 20-метровый туннель и заложили в него десять 120-килограммовых авиабомб и десятки специальных мин.
Стараясь сохранить уцелевшие памятники Заповедника, наши войска избегали прямого штурма Михайловского. 12 июля 1944 года советские воины освободили Пушкинские Горы. Писатель Николай Тихонов так рассказывает об этом: «Пушкинские места я увидел во время Великой Отечественной войны, когда они были только что освобождены. Печать разорения лежала на них. Мимо Святогорского монастыря шли на фронт машины. У монастыря они обязательно останавливались, и командиры и бойцы подымались по лестнице наверх, к могиле Пушкина. Всегда среди приехавших находился человек, который произносил краткое слово. Эта встреча с Пушкиным людей, спешивших на фронт, который ушел уже за Режицу, производила большое впечатление».
К 150-летию со дня рождения великого русского поэта Пушкинский Заповедник был в основном восстановлен, 12 июня 1949 года открыл свои двери для посетителей возрожденный из пепла Дом-музей А. С. Пушкина, еще ранее были восстановлены домик няни и Успенский собор Святогорского монастыря-музея.
В последующие годы в Пушкинском Заповеднике продолжались реставрационные работы с целью еще больше придать пушкинским местам тот вид, какой они имели при жизни поэта.
|

В течение 1953—1968 годов в Михайловском на территории усадьбы были восстановлены три пушкинских флигеля, погреб, людская изба, крестьянский амбарчик; в Святогорском монастыремузее отремонтирована гробница Пушкина (1953—1954 годы) и каменная отмостка площадки вокруг нее, восстановлен главный вход в монастырь — Святые ворота. На надгробном памятнике поэту восстановлены некоторые детали, придавшие ему первоначальный вид.
В Михайловском в прежних размерах восстановлены Еловая аллея и фруктовый сад.
В августе 1962 года в восстановленном доме Осиповых-Вульф в Тригорском был торжественно открыт новый большой музей, а вокруг него восстановлены цветники, газоны и зеленая беседка.
В целях дальнейшего улучшения охраны природных памятников Пушкинского Заповедника, его флоры и фауны, строгого соблюдения мемориальное™ пушкинских мест, Псковский облисполком в 1965 году принял специальное решение о создании вокруг Заповедника охранной зоны в радиусе от одного до пяти километров от его внешних границ. Здесь запрещались все виды охоты, промысла, возведение сооружений, могущих разрушить целостность пушкинского пейзажа по соседству с Михайловским.
В 1966 году охранная зона была создана и вокруг Святогорского монастыря-музея в поселке Пушкинские Горы.
Теперь ежегодно в Пушкинском Заповеднике торжественно отмечаются три даты: годовщины рождения и гибели поэта и годовщина его приезда в Михайловскую ссылку. На этих пушкинских торжествах с докладами и научными сообщениями о творческой деятельности поэта в Михайловском выступают ведущие ученые — пушкинисты нашей страны. Ежегодно проходит здесь и традиционное двухдневное научное собрание — Пушкинские чтения. А в честь дня рождения великого поэта в Заповеднике теперь устраивается Всесоюзный пушкинский праздник поэзии. Он проводится Союзом писателей СССР совместно с Пушкинским Заповедником, партийными и советскими организациями Псковской области в первое воскресенье июня в селе Михайловском. На этот праздник из союзных республик и областей съезжается более 100 тысяч человек, перед которыми выступают десятки писателей и поэтов из всех республик страны, литераторы многих зарубежных стран, выдающиеся мастера советского искусства. Председателем постоянного Оргкомитета Союза писателей СССР по проведению этого праздника является большой знаток и исследователь творчества А. С. Пушкина писатель И. Л. Андроников.
Каждый год в Пушкинский Заповедник, в его музеи и парки со всех концов нашей огром-
Ной страны приезжает более 350 тысяч Экскурсантов.
Много гостей бывает и из-за рубежа. И всех паломников здесь особенно трогает и волнует встреча с Пушкиным, с его бессмертной поэзией, с немеркнущей красой воспетой им природы.
«Больше тридцати лет мечтал я побывать здесь, в Михайловском и Тригорском, у стен Святогорского монастыря, у священной для поколений русских людей могилы Пушкина, — пишет в «Книге впечатлений» большой знаток творчества Пушкина поэт П. Г. Антокольский. — Наконец, на старости лет нам с женой посчастливилось побывать здесь — в прохладный июльский день, когда все полно жизнью, дышит светом и радостью. Наибольшее впечатление производит… любовь, которой окружено и благоустроено, ухожено и воскрешено заново это человеческое гнездо— жилище ссыльного поэта. Трудно оценить огромный и благородный труд, затраченный на такое дело. Он перед глазами туристов, посетителей, паломников. Жалко уезжать отсюда!»
А шахтеры Донецкой области оставили такую запись: «Память о Пушкине, дух Пушкина до сих пор живы в Михайловском. Идя по музеям, по аллеям парка так и ожидаешь, что вот на повороте столкнешься с самим великим русским поэтом».
«Трудно, невозможно выразить словами те чувства, которые охватывают человека, когда он побывает в этих заповедных пушкинских местах, — пишет народный артист СССР В. Я. Ста — ницын. — Это на всю жизнь! Раз побывав здесь, нельзя не стремиться сюда снова и снова!»
Санджей Чандра, гость из далекой Индии, так выразил свои впечатления: «Дом-музей
А. С. Пушкина мне очень понравился. Эти места нам, любящим Россию, очень дороги. Мое паломничество по России было бы половинчатым, если бы не был в Михайловском».