Его комната в два окна невелика по размеру. В ней воссоздана обстановка, типичная для комнаты молодого поместного дворянина пушкинского времени.
У письменного стола кресло А. Н. Вульфа, часы его деда А. М. Вындомского, ломберный столик, стоявший некогда в его комнате. Пз вещей пушкинской эпохи в комнате находятся письменной стол, шахматный столик, чубук, оружие. В небольшом стеклянном футляре «военные отличия, какими был награжден Вульф
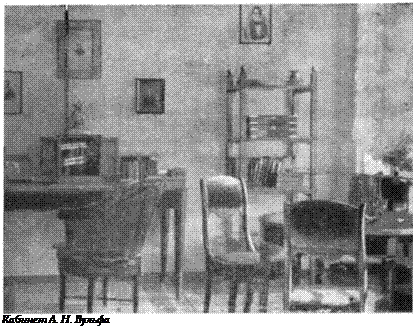 |
за время военной службы: медаль за Польскую кампанию и орден «Virtuti militari». У правой от входа стены стоит тахта, около нее на стене висит ковер. На стене портреты Байрона и Вульфа (в военном мундире).
У противоположной стены, под окнами круглый стол, на нем вместительный серебряный жбан, прикрытый сверху скрещенными шпагами, а на месте их скрещения — большая белая голова сахара. Здесь приготовлялась знаменитая жженка.
Вскоре после приезда в ссылку Пушкин пишет в Дерпт стихотворное послание Вульфу:
Здравствуй, Вульф, приятель мой! Приезжай сюда зимой,
Да Языкова поэта Затащи ко мне с собой…
Пушкин и сам приглашал Языкова в гости в деревню:
Я жду тебя. Тебя со мною Обнимет в сельском шалаше Мой брат по крови, по душе,
Шалун, замеченный тобою…
<г/С Языкову»
И когда летом 1826 года Языков, наконец, приехал вместе с Вульфом на летние каникулы (они были студентами Дерптского университета), жизнь в Тригорском сделалась непрерывным рядом праздников, гуляний, дружеских бесед, дальних прогулок и поэтических обменов мыслями. И почти каждая вечерняя дружеская беседа сопровождалась ритуалом приготовления жженки.
А. Н. Вульф об этих минутах непринужденных жарких бесед потом вспоминал: «Сестра Евпраксия, бывало, заваривает всем нам после обеда жженку. Сестра прекрасно ее варила, да и Пушкин, ее всегдашний и пламенный обожатель, любил, чтоб она заваривала жженку. И вот мы из больших бокалов — сидим, беседуем и распиваем пунш. И что за речи несмолкаемые, что за звонкий смех, что за дивные стихи то Пушкина, то Языкова сопровождали нашу дружескую пирушку».
Пушкин и Языков здесь крепко подружились, и после этого, как писал Языков брату из Дерпта 2 сентября 1826 года, у него «завелась переписка с Пушкиным — дело очень любопытное. Дай бог только, чтобы земская полиция в него не вмешалась».
Дни, проведенные в Тригорском, вдохновили Языкова на создание цикла стихов об этих местах, об Осиповых-Вульф, стихотворного послания к Пушкину:
О ты, чья дружба мне дороже Приветов ласковой молвы,
Милее девицы пригожей,
Святее царской головы!
Н. М. Языков. «Л. С. Пушкину»
«Братом по духу» называл тогда Пушкин и А. Н. Вульфа, разделявшего в ту пору пылкой «геттингенскою душою» свободолюбивые взгляды. Например, в своем «Дневнике» он 11 ноября 1828 года сделал такую запись: «Странна такая неприязнь во мне к власти и всему, что близко к ней; самые лица (напр. Государя) я скорее люблю, чем не люблю, но коль скоро я в них вижу самодержцев, то невольное отвращение овладевает мною, и я чувствую, какое-то желание противодействия…»
Пушкин делился с ним своими творческими планами, и, по словам Вульфа, «многие из мыслей, прежде, чем я прочел в «Онегине», были часто в беседах глаз на глаз с Пушкиным, в Михайловском, пересуждаемы между нами, а после я встречал их, как старых знакомых». Конечно, здесь Вульф преувеличивает свое влияние на поэта, но известно и то, что Пушкин охотно и много читал ему свои произведения. Видимо, его имел в виду Пушкин, когда писал в «Онегине»:
Да после скучного обеда Ко мне забредшего соседа, Поймав нежданно за полу, Душу трагедией в углу.
Вульф уже после смерти Пушкина сделался типичным крепостником-помещиком, скопидомом, прижимистым хозяином. Как далеки оказались потом его записи-распоряжения по хозяйству, в которых он даже запрещал крестьянам собирать в своем лесу грибы и ягоды, от вольнолюбивых мыслей его «Дневника» молодых лет, так привлекавших Пушкина!
Непринужденной веселостью и шутливой полувлюбленностью отличалось отношение ссыльного Пушкина к тогда еще совсем юной Евпрак — сии Николаевне Вульф, комната которой была соседней с кабинетом Вульфа.
В ее комнате, очень маленькой, но уютной, воссоздана обстановка комнаты сельской дворянской барышни. Вещи здесь пушкинской эпохи: столик, канапе, туалет и др.; на стене силуэтные портреты хозяйки комнаты и ее сестры Аннеты. «Головка девушки» Греза, лубочная иллюстрация к пушкинскому «Талисману».
В простенках у окна висят большие фотографии пожилой уже Евпраксии Николаевны и ее мужа Б. А. Вревского.
Тут же рядом небольшой стеклянный шкафик, в котором хранятся личные вещи Е. Н. Вульф и вещи из тригорского дома: чернильница и шкатулка, подаренные ей поэтом ко дню рождения, тут же серебряный ковшик с длинной тонкой ручкой. Этим ковшиком и разливали по бокалам воспетую Пушкиным и Языковым жженку.
Рядом у окна стоят старинные господские пяльцы, за которыми поэт часто видел Евпрак — сию, и к ней также могут быть отнесены слова поэта, адресованные ее сестре Алине:
Когда за пяльцами прилежно Сидите вы, склонясь небрежно,
Глаза и кудри опустя,—
Я в умиленье, молча, нежно Любуюсь вами, как дитя!..
<гПризнание»
Как и всякая другая барышня-дворянка, Е. Н. Вульф имела свои альбомы. Они не сохранились, но для воссоздания этой непременной детали усадебного быта в шкафик рядом с личными ее вещами помещены два альбома того времени. Один из них принадлежал сестре секунданта Пушкина Данзаса (в альбоме есть стихи самого Данзаса), другой из семьи современников Пушкина Тимковских.
Конечно, это альбомы тригорских девушек имел в виду поэт, когда, вернувшись из ссылки,
сравнивал альбом уездной барышни с великолепными альбомами столичных дам:
Я не люблю альбомов модных: Их ослепительная смесь Аспазий наших благородных Провозглашает только спесь. Альбом красавицы уездной. Альбом домашний и простой, Милей болтливостью любезной И безыскусной пестротой.
«И. В. Сленину»
А каким был в то время альбом «красавицы уездной», Пушкин пишет в IV главе «Онегина», которая создавалась в пору почти ежедневных посещений поэтом Тригорского:
Конечно, вы не раз видали Уездной барышни альбом,
Что все подружки измарали С конца, с начала и кругом.
…Тут непременно вы найдете Два сердца, факел и цветки;
Тут верно клятвы вы прочтете В любви до гробовой доски;
Какой-нибудь пиит армейский Тут подмахнул стишок злодейский.
В такой альбом, мои друзья,
Признаться, рад писать и я…
Пушкин украсил своими стихами альбомы почти всех тригорских девушек, в том числе и Ев — праксии Вульф. Он написал в ее альбом исполненное жизненной мудрости стихотворение «Если жизнь тебя обманет». А когда однажды она разорвала не понравившийся ей мадригал, преподнесенный Пушкиным и Языковым, то Пушкин в ее альбоме написал:
Вот, Зина, вам совет: играйте, Из роз веселых заплетайте Себе торжественный венец И впредь у нас не разрывайте Ни мадригалов, ни сердец.
<гК Зине»
Уже после ссылки поэт вписал ей в альбом заключительную строфу VI главы «Евгения Онегина».
Неистощимая на выдумки, веселая и общительная, заводила многих игр и развлечений в кругу тригорской молодежи, Евпраксия сразу же оказалась на дружеской ноге с опальным поэтом, которого она заражала своим весельем, шутками. В одном из писем в ноябре 1824 года поэт сообщает, что «Евпраксия уморительно смешна», а в другом письме пишет: «На-днях,
я мерился поясом с Евпраксией, и талии наши нашлись одинаковы. След, из двух одно: или я имею талью 15-летней девушки, или она талью 25-летнего мужчины. Евпраксия дуется и очень мила».
Видимо, эта веселая шутка вспомнилась поэту, когда он в «Евгении Онегине» упоминал о Ев — праксии:
…Между жарким и блан-манже, Цимлянское несут уже;
За ним строй рюмок узких, длинных, Подобно талии твоей,
Зизи, кристалл души моей,
Предмет стихов моих невинных, Любви приманчивый фиал,
Ты, от кого я пьян бывал!
До конца жизни у Пушкина сохранились дружеские отношения с Е. Н. Вульф. В 1828 году он дарит ей вышедшие из печати IV и V главы «Онегина» с многозначительной надписью: «Ев- праксии Николаевне Вульф А. Пушкин. Твоя от твоих. 22 февраля 1828 г.». Все то, что поэт почерпнул здесь, наблюдая жизнь и быт Тригор — ского, он возвращал воплощенным в гениальные строки романа его обитателям — таков смысл этих пушкинских слов.
Несомненно, многие черты уклада жизни Осиповых-Вульф нашли отражение в романе, особенно в характеристике семьи Лариных, которые, как и тригорские жители
…хранили в жизни мирной Привычки милой старины;
У них на масленице жирной Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод…
Это именно в Тригорском Пушкин всегда видел
…К гостям усердие большое,
Варенье, вечный разговор
Про дождь, про лен, про скотный двор.
«• Евгений Онегин»
Об этих «патриархальных» разговорах в Тригорском доме поэт упоминает в письме из Михайловского В. Ф. Вяземской, а о традиционном хлебосольстве и «варенье» Осиповых-Вульф очень красочно рассказал Языков, прогостив здесь несколько недель. В письме к матери он так описывает свое пребывание в Тригорском: «Изобилие плодов земных, благорастворение воздуха, благорасположение ко мне хозяйки… потом деревенская прелесть природы, наконец, сладости и сласти искусственные, как-то: варенья, вина и прч. — все это вместе составляет нечто очень хорошее, почтенное, прекрасное, восхитительное, одним словом — житье».
А. Н. Вульф даже прямо утверждал, что он, «дерптский студент, явился в виде геттингенского студента Ленского, любезные мои сестрицы — суть образцы его деревенских барышень». Конечно, это очень смелое утверждение, ибо основные контуры образов Ольги и Татьяны Лариных и Ленского были обрисованы поэтом еще до михайловской ссылки, на Юге, когда и Алексей, и Евпраксия были детьми. И хотя совершенно определенно тригорская молодежь не была прямыми прототипами героев пушкинского романа, все же общение с Тригорским, дух его повседневного провинциального быта нашли отражение в «Евгении Онегине».
Особенно много интересного для своего творчества поэт мог почерпнуть, когда вся семья
 |
Осиповых-Вульф и их гости собирались в гостиной тригорского дома.
