Внизу, где кончается «интимный парк», берет начало чуть наезженная дорога, она ведет из Михайловского в Тригорское. По этой дороге на рассвете 4 сентября 1826 года, как рассказывает М. И. Осипова, в Тригорское прибежала Арина Родионовна, «…вся запыхавшись; седые волосы ее беспорядочными космами спадали на лицо и плечи; бедная няня плакала навзрыд. Из расспросов ее оказалось, что вчера вечером… в Михайловское прискакал какой-то не то офицер, не то солдат… Он объявил Пушкину повеление немедленно ехать вместе с ним в Москву. Пушкин успел только взять деньги, накинуть шинель, и через полчаса его уже не было. «Что ж, взял этот офицер какие-нибудь бумаги с собой?» — спрашивали мы няню. — «Нет, родные, никаких бумаг не взял и ничего в доме не ворошил; после только я сама кой-что поунич — тожила…» — «Что такое?» — «Да сыр этот проклятый, что Александр Сергеевич кушать
любил, а я так терпеть его не могу, и дух-то от него, от сыра-то этого немецкого, — такой скверный».
Этому внезапному отъезду Пушкина из ссылки предшествовали значительные события, прямо коснувшиеся и судьбы поэта-изгнанника.
К началу декабря 1825 года Пушкин уже знал о смерти царя Александра I, и эта весть вселила в него надежду на возможные перемены его нынешнего положения. В письме к П. А. Катенину от 4 декабря он выражал надежду, что «…может быть, нынешняя перемена сблизит меня с моими друзьями». Но за плечами Пушкина было столько неудавшихся попыток покончить с ссылкой, что он на этот раз осторожно вопрошает: «Но вспомнят ли обо мне? Бог весть».
О своих надеждах и в то же время серьезных сомнениях он пишет через четыре дня и А. П. Керн (на французском языке): «Вы едете в Петербург, и мое изгнание тяготит меня более, чем когда-либо. Быть может, перемена, только что происшедшая, приблизит меня к вам, не смею на это надеяться. Не стоит верить надежде, она — лишь хорошенькая женщина, которая обращается с нами, как со старым мужем».
А вскоре произошло восстание декабристов, которое отодвигало надежды Пушкина на неопределенное время. Поэт узнал об этом в Три — горском вскоре после самого события от дворового человека, только что приехавшего из столицы. ’
«…Пушкин, услышав рассказ Арсения, страшно побледнел. В этот вечер он был очень скучен, говорил кое-что о существовании тайного общества, но что именно, не помню», — вспоминает М. И. Осипова. Поэт понимал, что после случившегося имя его не останется в полной тени.
И действительно, многие декабристы во время следствия, отвечая на вопрос, «с какого времени и откуда заимствовали они свободный образ мыслей, то есть от общества ли, или от внушения дру-
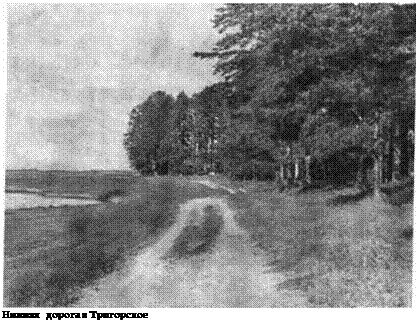 |
гих, или от чтения книг, или сочинений в рукописях и каких именно», и кто вообще «способствовал укоренению в них сих мыслей» — называли имя Пушкина. Например, М. П. Бестужев-Рюмин показал на следствии, что «рукописных экземпляров вольнодумных сочинений Пушкина и прочих столько по полкам, что это нас самих удивляло».
Декабрист И. Д. Якушкин свидетельствовал о популярности и широком распространении ненапечатанных вольнолюбивых стихов поэта, которые «были не только всем известны, но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который бы не знал их наизусть».
«…Тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его «Деревня»,
«Ода на свободу», «Ура! В Россию скачет!» и др. … — рассказывает И. И. Пущин. — Не было живого человека, который не знал бы его стихов».
В такой обстановке друзья Пушкина на просьбы похлопотать о его судьбе советовали ему «остаться покойно в деревне, не напоминать о себе», ибо, как писал ему Жуковский, «в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством», и поэтому надо дать «пройти несчастному этому времени».
Вскоре Пушкин обратился к Николаю I с прошением, в котором обещал не противоречить мнениям и «общепринятому порядку», просил императора для «постоянного лечения» аневризма «позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие края». К письму было приложено медицинское свидетельство Псковской врачебной управы о болезни Пушкина и его подписка «впредь ни к каким тайным обществам, под каким бы они именем ни существовали, не принадлежать».
Однако сам Пушкин серьезно сомневался в благоприятном решении властями его просьбы. «Я уже писал царю, тотчас по окончании следствия,—писал поэт Вяземскому 10 июня 1826 года. — Жду ответа, но плохо надеюсь. …Я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем… Если б я был потребован комиссией, то я бы, конечно, оправдался, но меня оставили в покое, и, кажется, это не к добру».
И действительно, материалы следствия над декабристами создавали у следственной комиссии представление о Пушкине, как об опасном для общества вольнодумце, «рассевавшем яд свободомыслия в обольстительной поэтической форме». Какими глазами смотрели на Пушкина в тот момент царские приспешники, показывает донесение тайного агента III отделения (жан-
дармского) Н. Локателли (в июне 1826 года), в котором он писал, что в обществе «все чрезвычайно удивлены, что знаменитый Пушкин, который всегда был известен своим образом мыслей, не привлечен к делу заговорщиков».
Именно поэтому правительство и не спешило решать участь Пушкина, ожидая дополнительных сведений о его поведении в михайловской ссылке. Эти сведения должен был дать посланный специально для этого в Псковскую губернию под видом ботаника тайный агент А. К. Бошняк. Любопытно, что маршрут его поездки по сбору сведений о поведении Пушкина пролегал чаще всего по тем местам, где летом 1826 года бушевали крестьянские волнения. Бошняку хотелось в первую очередь установить, «не понуждает ли Пушкин крестьян к неповиновению начальству». Тщательный сбор сведений Бошняком устанавливал, что Пушкин «ни во что не вмешивается и живет, как красная девка», что «ведет себя несравненно осторожнее противу прежнего», «скромен и осторожен, о правительстве не говорит», и агент делал вывод, что «Пушкин не действует решительно к возмущению крестьян» и «не может быть почтен, — по крайней мере, поныне, — распространителем вредных в народе слухов, а еще менее — возмутителем».
Видимо, годы ссылки научили Пушкина быть более сдержанным внешне, хотя внутренне он не менял своих вольнолюбивых убеждений. И в то время когда царские агенты собирали подробнейшие сведения о его политических взглядах, он не скрывал в письмах к друзьям своих горячих симпатий к декабристам.
Он пишет, что «неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи», его мучит (из письма к Плетневу), что его беспокоит судьба арестованного А. Раевского, ибо он «болен ногами, и сырость казематов будет для него смертельна. Узнай, где он, и успокой меня» (из письма к Дельвигу), что «сегодня участь их должна решиться — душа не на месте» (из пись-
ма к нему же). В письме к Жуковскому, где поэт просит похлопотать о нем, он решительно добавляет: «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя».
Когда же Пушкин узнал о расправе над декабристами, он с болью пишет Вяземскому 14 августа 1826 года: «Повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна».
Между тем прошению Пушкина был дан ход: гражданский псковский губернатор Адеркас отправил его прибалтийскому генерал-губернатору Паулуччи, а тот, в свою очередь, 30 июля 1826 года — графу Нессельроде.
Не имея прямых улик, но ничуть не веря в лояльность Пушкина по отношению к себе, царь решил разыграть спектакль: вызвать в Москву, где окончательно решить его судьбу. И вот в Псков Адеркасу летит секретный приказ начальника Главного штаба Дибича о том, чтобы «находящемуся во вверенной вам Губернии чиновнику 10 класса Александру Пушкину позволить отправиться сюда при посылаемом вместе с ним нарочным фельдъегерем. Г. Пушкин может ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу Главного Штаба Его величества».
Фельдъегерь примчался в Псков вечером 3 сентября и тотчас отправился в Михайловское. А 4 сентября П. А. Осипова уже записала в своем календаре: «В ночь с 3-го на 4-е число прискакал офицер из Пскова к Пушкину, — и вместе уехали на заре».
Усталого, полубольного, покрытого дорожной грязью Пушкина доставили 8 сентября во дворец к Николаю I, и между ними состоялся разговор. Барон М. А. Корф, слышавший потом рассказ об этом свидании от самого царя, так передает его: «Я впервые увидел Пушкина после моей
коронации, когда его привезли из заключения ко мне в Москву, совсем больного… «Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге?» — спросил я его между прочим. «Стал бы в ряды мятежников», — отвечал он. На вопрос мой, переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю… очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул мне руку с обещанием сделаться другим». Царь «милостиво» объявил, что отныне он будет личным цензором поэта: этим он хотел добиться того, о чем с циничной откровенностью писал шеф жандармов Бенкендорф в донесении: «Если удастся направить его перо и его речи, в этом будет прямая выгода».
Но ни личное вмешательство царя в творческий процесс поэта, ни всевидящее и преследующее око жандармов в лице Бенкендорфа не изменили вольнолюбивых убеждений поэта — он «гимны прежние» пел, он не стал придворным стихотворцем, и после разгрома декабристов опять «звонкая и широкая песнь Пушкина звучала в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, наполняла мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в отдаленное будущее» (А. И. Герцен).
Пушкин понимал, что его молниеносный отъезд наделает переполоху в Михайловском и Три — горском, и поэтому он 4 сентября 1826 года из Пскова пишет успокоительное письмо П. А. Осиповой (на французском языке): «Я полагаю, что мой внезапный отъезд с фельдъегерем удивил вас столько же, сколько и меня. Дело в том, что без фельдъегеря у нас, грешных, ничего не делается…
Еду я прямо в Москву… и лишь только буду свободен, поспешу возвратиться в Тригорское, к которому отныне навсегда привязано мое сердце».
И действительно, уже через два месяца свободный поэт снова возвращается в Михайлов-
ское, надо было привести в порядок наспех брошенные рукописи, библиотеку.
«Вот я в деревне… — писал он Вяземскому из Михайловского 9 ноября 1826 года. — Деревня мне пришлась как-то по сердцу. Есть какое-Tv, поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму.
Ты знаешь, я не корчу чувствительность, но встреча моей дворни… и моей няни — ей-богу приятнее щекотит сердце, чем слава, наслаждения самолюбия, рассеянности и пр.».
Пушкин радовался новой встрече с теми, кто его любил, кто в тяжелую годину изгнания старался помочь ему, сколько можно было.
На обратном пути из деревни Пушкин 13 декабря в Пскове пишет посвященные сосланному в Сибирь Пущину стихи «Мой первый друг, мой друг бесценный!»
Вез он с собой и написанную в этот приезд в Михайловское «Записку о народном воспитании», по прочтении которой царь «заметить изволил», что проповедоваемое Пушкиным в «Записке» мнение, «будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти…» Этим было положено начало целому ряду последующих замечаний «личного цензора» — царя, которые так мучили Пушкина до конца его жизни.
Вернувшись в Москву, Пушкин весной 1827 года поехал в Петербург, откуда намеревался ехать «или в чужие края, то есть в Европу, или восвояси, то есть во Псков»… В Европу Пушкин не поехал, а «убежал в деревню, почуя рифмы», откуда и уведомлял Дельвига: «Я в деревне и надеюсь много писать, вдохновенья еще нет, покаместь я принялся за прозу». Поэт большую часть своего более чем двухмесячного пребывания в деревне посвятил работе над «Арапом Петра Великого» — своим первым опытом в прозе. В это же время он написал в Михайловском
стихотворение «Поэт», начал VII главу «Евгения Онегина» и еще несколько стихотворений.
В августе 1830 года по дороге из Петербурга в Москву Пушкин вновь заезжает в Михайловское на короткое время.
После ссылки жизнь поэта не стала безоблачной. Его постоянно преследовал выговорами и замечаниями Бенкендорф, много горьких минут приносила бесцеремонность цензора-царя, без одобрения которого он не имел права печатать свои произведения, «снова тучи» собрались над его головой по возникновению «дела» о стихах «А. Шенье». Поэт не без оснований даже думал одно время о готовящихся новых карах для него.
Там, в тяжкой атмосфере светского Петербурга, ему не было «отрады». Он все чаще и чаще мысленно ищет ее в родной деревне — в близости к простому народу, полюбившейся навсегда сельской природе. И когда в опостылевшей столице поэта томил «тоскою однозвучной жизни шум», он мысленно обращал свои взоры на иные, милые ему «картины»:
Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи…
Теперь мила мне балалайка Да пьяный топот трепака Перед порогом кабака.
Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой…
«Евгений Онегин»
Почти в это же время, когда поэт писал эти строки, он предпринимает даже практические шаги обрести этот покой в деревне, где он собирался с головой уйти в творчество. Он просит П. А. Осипову узнать условия и возможность покупки соседнего сельца Савкино.
Мечтой о деревенском покое, об иной жизни, приносящей душевное удовлетворение, прониза-

ны и строки стихотворного обращения Пушкина к своей жене:
Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем Предполагаем жить… И глядь — как раз — умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег В обитель дальную трудов и чистых нег.
«Пора, мой друг, пора!»
Стихотворение это явилось отголоском мечты Пушкина выйти в отставку летом 1834 года. Пушкин мечтает покинуть Петербург, по крайней мере на длительное время, и в 1835 году. 2 мая
 |
1835 года он пишет Н. И. Павлищеву: «Думаю
оставить Петербург и ехать в деревню, если только этим не навлеку на себя неудовольствия».
В мае 1835 года он приехал в Михайловское «скучный, утомленный: «Господи, — говорит,-—
как у вас тут хорошо! А там-то, там-то, в Петербурге, какая тоска зачастую душит меня», — вспоминала М. И. Осипова.
В письме своему отцу 20 октября 1836 года он сетует на то, что не смог «побывать в Михайловском… Это расстроит мои дела по крайней мере еще на год. В деревне я бы много работал; здесь я ничего не делаю, а только исхожу желчью».
Еще годом раньше, в 1835 году, поэт тоже связывал свое семейное и материальное благо-
получие с переездом в Михайловское. И летом 1835 года он снова пытается добиться длительного отпуска в деревню — на три-четыре года. Но и на этот раз «плюнуть на Петербург да удрать в деревню» не удалось: царь выразил неудовольствие просьбой Пушкина, равнозначной, по определению царя, отставке, которой поэт не хотел только из-за того, что она закрывала ему доступ для работы в архивах.
Пушкину пришлось не настаивать на своей просьбе, а согласиться с тем, что предложил ему царь, — ехать в деревню в отпуск на четыре месяца.
7 сентября поэт выехал из Петербурга в Михайловское. И хотя он ехал навстречу деревенской осени, всегда очень плодотворной в его творчестве, на этот раз работа шла туго. «Пишу, через пень колоду валю, — пишет он в письме к П. А. Плетневу. — Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен».
Пушкин был неспокоен, и он откровенно пишет об этом 21 сентября и жене своей: «Я все беспокоюсь и ничего не пишу, а время идет. Ты не можешь вообразить, как живо работает воображение, когда сидим одни между четырех стен, или ходим по лесам, когда никто не мешает нам думать, думать до того, что голова закружится. А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет? Отец не оставит мне имения; он его уже в половину промотал; ваше имение на волоске от погибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты… У нас ни гроша верного дохода…»
В этом же письме он кратко говорит о здешнем своем житье-бытье: «Я много хожу, много
езжу верхом, на клячах, которые очень тому рады, ибо им за то дается овес, к которому они не привыкли. Ем я печеный картофель, как маймист, и яйца всмятку, как Людовик XVIII. Вот мой обед. Ложусь в 9 часов; встаю в 7».
Он часто наведывается в Тригорское, ездит в гости во Врев (Голубово), в имение мужа
 |
Евпраксии Николаевны Вревской (Вульф), о которой он шутливо пишет жене: «Был у Вревских третьего дня… Вревская очень добрая и милая бабенка, но толста, как Мефодий, наш Псковский архиерей».
Поэт, несмотря на отсутствие вдохновения, работает здесь над «Сценами из рыцарских времен», «Египетскими ночами», ведет оживленную переписку с друзьями, много читает.
В этот приезд он создает проникнутое трогательной любовью к родному уголку стихотворение «Вновь я посетил». Сюжетно оно построено так: Пушкин идет по хорошо знакомой дороге из Михайловского в Тригорское и видит то, что ему давно уже было дорого, знакомо, близко.
Дорога в Тригорское идет от усадьбы берегом Сороти, потом по берегу озера Маленец (другая
дорога идет от Михайловского в Тригорское через парк, а потом лесом — к озеру Маленец и дальше).
На противоположном берегу озера высится покрытый могучими соснами холм — «холм лесистый».
Вот холм лесистый, над которым часто Я сиживал недвижим — и глядел На озеро, воспоминая с грустью Иные берега, иные волны…
«…Вновь я посетил»
Берега этого красивейшего, окруженного с трех сторон сосновым бором озера часто видали Пушкина в пору ссылки:
Тоской и рифмами томим,
Бродя над озером моим,
Пугаю стадо диких уток:
Вняв пенью сладкозвучных строф,
Они слетают с берегов.
<гЕвгений Онегин»
Дорога огибает озеро и у подъема раздваивается: направо ведет в Савкино, налево — в Тригорское.
