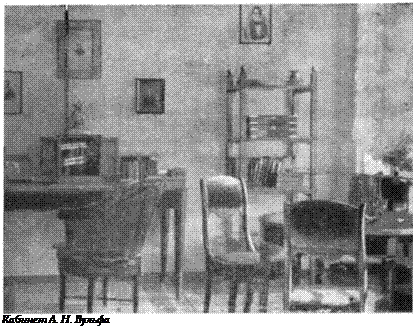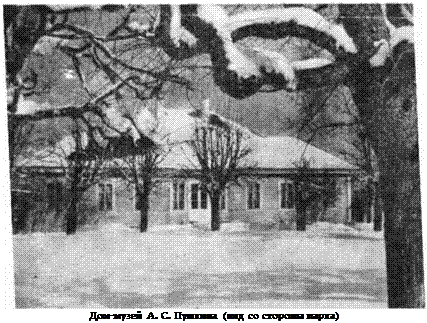От этих лип влево по небольшому склону, покрытому сочной густой травой, идет аллейка к пруду. В его зеркальной глади отражаются перекинутый через него белый горбатый мостик, дымчатая стена из высоких серебристых ив, склонивших свои ветви к самой воде, и только что вышедшая на берег, истово отряхивающаяся стайка молодых уток. Это тот самый, пушкинский
…пруд под сенью ив густых, раздолье уток молодых,
от которого аллея, обсаженная с обеих сторон яркими цветами, идет мимо обширного фруктового сада, разрезая его на две части — северную
Пруд с серебристыми ивами ^
 |
|
Аллея, ведущая к пруду с серебристыми ивами, у входа на усадьбу
|
|

и южную, •— в центр усадьбы. Она вся в зелени деревьев, куртин сирени, кустов жасмина, барбариса и желтой акации. И когда всего через полсотни шагов попадаешь на край крутого холма, на котором расположена усадьба, не веришь, что она уже кончается. Отсюда сквозь заросли густой сирени вдруг открывается неповторимый вид на окрестности. У самого подножия холма течет тихоструйная Сороть, за ней колышутся метровые травы широких заливных лугов, на холмах, уходящих волнами вдаль, живописно разбросаны деревни, а чуть правее •— синяя гладь озера Кучане (Петровского), на противоположном берегу которого вздымается густая куща деревьев — парк Петровского, имение двоюродного деда Пушкина Петра Абрамовича Ганнибала.

Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбаря белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крилаты…
«Деревня»
Этот пейзаж стал для Пушкина частицей чего — то навсегда родного и близкого, и спустя шестнадцать лет после написания этих стихов он, приехав в Михайловское, опять любуется им:
…и глядел
На озеро, воспоминая с грустью Иные берега, иные волны…
Меж нив златых и пажитей зеленых Оно синея стелется широко;
Через его неведомые воды
Плывет рыбак и тянет за собою Убогий невод. По брегам отлогим Рассеяны деревни — там за ними Скривилась мельница, насилу крылья Ворочая при ветре…
€Вновь я посетил»
Здесь, на вершине Михайловского холма, особенно остро чувствуется то, о чем так проникновенно писал К — Паустовский: «Я изъездил почти всю страну, видел много мест, удивительных и сжимающих сердце, но ни одно из них не обладало такой внезапной лирической силой, как Михайловское».
Усадьба поэта невелика. С севера она оканчивается крутым обрывом к реке Сороти, а с юга ее ограничивают тенистый парк и Михайловские рощи.
Планировка усадьбы очень проста, все основные хозяйственные службы находились в непосредственной близости от господского дома. Он стоит в центре усадьбы, обращенный южной стороной фасада с парадным крыльцом в сторону парка, а северной — к реке Сороти и живописным окрестностям. Перед домом расположен большой дерновый круг, который при Пушкине был обсажен декоративным венком из кустов сирени, жасмина и желтой акации. Сейчас же по окружности растут двадцать шесть декоративных лип, а в центре — мощный вяз с раскидистыми, касающимися самой земли ветвями. Эти изменения в планировке усадьбы произошли сравнительно недавно: вяз был посажен в конце XIX века сыном поэта Григорием Александровичем перед отъездом из Михайловского, а липы по кругу — в 1898 году.
По обе стороны от господского дома в пяти — десяти шагах друг от друга идут службы и хозяйственные постройки. Слева от него (если смотреть со стороны парка) стоит бывшая банька, называемая теперь по традиции домиком няни — в память Арины Родионовны, няни Пушкина, которая живала в одной из ее комнаток —
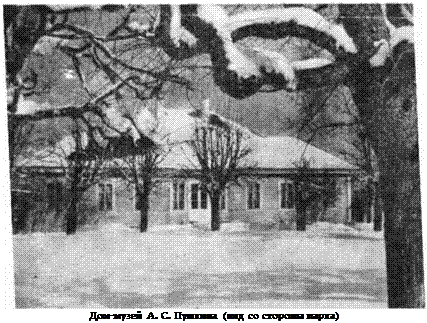
светелке. Еще левее — большой погреб с деревянной двускатной крышей. Находившийся некоторое время вместе с Пушкиным в Михайловском его кучер Петр Парфенов рассказывал, как поэт «…с утра из пистолетов жарит, в погреб, вот тут за баней, да раз сто эдак и выпалит в утро-то».
Еще чуть левее погреба — амбарчик (восстановлен в 1965 году). Он незамысловатой крестьянской архитектуры, типичной для Псковщины того времени, крыт соломой, и это невольно воскрешает в памяти пушкинский поэтический образ:
То по кровле обветшалой Вдруг соломой зашумит…
«Зимний вечер»
По другую сторону господского дома расположен флигель таких же размеров, как и домик

Погреб на усадьбе поэта (слева), за ним виден домик няни
няни, — бывшая кухня и людская (восстановлен в 1955 году), правее, в один ряд с кухней и людской стоят еще два флигеля: дом управляющего имением (восстановлен в 1962 году) и бывшая вотчинная контора (восстановлена в 1964 году).
За этими флигелями сразу же начинается фруктовый сад, посаженный в 1940 году после гибели старого сада от сильных морозов зимой 1939/40 года. В саду восстановлены те сорта фруктовых деревьев (в основном яблонь), которые были здесь при Пушкине. Между яблонями — несколько старинных колод пчел, на опушке сада—деревянная старинная голубятня.
Неподалеку от флигелей был каретный сарай (сейчас сохранился только фундамент), за садом располагались скотные дворы, гумно, амбары (все они не сохранились).
Такой усадьба была и при Пушкине.
Люби мой малый сад и берег сонных вод,
И сей укромный огород С калиткой ветхою, с обрушенным забором!
Люби зеленый скат холмов,
Луга, измятые моей бродящей ленью,
Прохладу лип и кленов шумный кров —
Они знакомы вдохновенью.
«Домовому»
Впервые это вдохновение Пушкин ощутил здесь летом 1817 года, в свое первое посещение Михайловского. Поэт, только что окончив лицей и получив отпуск «для приведения в порядок домашних дел», отправился 9 июля вместе с родителями в псковское имение. В его бумагах сохранилась записка о первом приезде в Михайловское: «Вышед из Лицея, я почти тотчас отправился в псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч…». Пушкин бывает в соседнем имении, в доме своих новых знакомых Осиповых — Вульф, гостит у двоюродного деда Петра Абрамовича Ганнибала, владельца соседнего с Михайловским села Петровского. Поэт пробыл в деревне полтора месяца, и в стихотворении «Простите, верные дубравы», написанном перед отъездом, тепло говорит о проведенных здесь днях:
Простите, верные дубравы!
Прости, беспечный мир полей,
И легкокрылые забавы Столь быстро улетевших дней!
Летом 1819 года Пушкин вторично посещает Михайловское. Накануне отъезда из Петербурга он, как бы предчувствуя радость новой встречи с полюбившимися ему в первый же раз местами, писал:
Смирив немирные желанья,
Без долимана, без усов,
Сокроюсь с тайною свободой,
С цевницей, негой и природой Под сенью дедовских лесов;
Над озером, в спокойной хате,
Или в траве густых лугов,
Или холма на злачном скате…
«Орлову»
На этот раз поэт ехал в псковскую деревню с большой охотой: он только что перенес тяжелую болезнь — «горячку» (тиф) — и предвкушал впереди оздоровляющий отдых:
Меня зовут холмы, луга,
Тенисты клены огорода,
Пустынной речки берега И деревенская свобода.
«В. В. Энгельгардту»
В этот приезд в Михайловское поэт создает знаменитое антикрепостническое стихотворение «Деревня».
Пушкин покинул Михайловское 11 августа 1819 года. Накануне отъезда он пишет проникнутое любовью к нему стихотворение «Домовому» — своеобразную «охранную грамоту» родному уголку:
Поместья мирного незримый покровитель.
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, лес и дикий садик мой И скромную семьи моей обитель!..
…Останься, тайный страж, в наследственной сени. Постигни робостью полунощного вора И от недружеского взора Счастливый домик охрани!
Ходи вокруг его заботливым дозором…
Поэт словно предчувствовал, что расстается с «поместьем мирным» надолго. Действительно, последовавшая в скором времени ссылка на Юг за то, что он, как выразился император Александр I, «наводнил всю Россию возмутительными стихами», на пять лет разлучила его с Михайловским. Пушкин снова приезжает в родное гнездо только 9 августа 1824 года.
А я от милых южных дам,
От жирных устриц черноморских,
От оперы, от темных лож И, слава богу, от вельмож Уехал в тень лесов Тригорских,
В далекий северный уезд;
И был печален мой приезд.
<гЕвгений ОнегинИз ранних редакций
Приезд поэта в Михайловское был действительно печален. Это был приезд в новую ссылку.
Михайловское было выбрано царским правительством не случайно. За годы южной ссылки (сначала в Кишиневе, а потом в Одессе) необычайно выросла популярность Пушкина среди передовых кругов дворянской молодежи. Его вольнолюбивые стихи в огромном количестве рукописных списков расходились по России.
Поэт, глубоко убежденный в общественной значимости своего поэтического творчества и считая его своим основным жизненным призванием, требовал от высших властей в лице наместника Южного края графа Воронцова уважения к самому себе прежде всего как поэту, а потом уже мелкому чиновнику — коллежскому секретарю Коллегии иностранных дел. Однако Воронцов, по уничтожающей характеристике Пушкина «придворный хам и мелкий эгоист», взбешенный независимостью поведения Пушкина, его влиянием на умы передовых кругов тамошнего общества, всячески третировал поэта, подчеркнуто пренебрежительно относился к его поэтическим занятиям, часто требуя пунктуального исполнения мелочных, порой даже оскорбительных для него чиновничьих поручений. Об этом стремлении властей унизить общественную значимость его поэзии Пушкин потом, находясь уже в Михайловской ссылке, с неостывшим возмущением писал: «Так! мы можем праведно гордиться: наша словесность не носит на себе печати рабского унижения. Наши таланты благородны, независимы… Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованием на уважение».
Граф Воронцов шлет в Петербург одно за другим требования избавить его от Пушкина, становящегося опасным для одесского общества. И вот в начале июля 1824 года воспоследовало высочайшее повеление «находящегося в ведомст-
ве Государственной коллегии иностранных дел коллежского секретаря Пушкина уволить вовсе со службы… выслать в имение его родных в Псковскую губернию, подчинив его там надзору местных властей». Поводом для новой расправы со свободолюбивым поэтом послужило его признание в письме, перехваченном властями, что он берет «уроки чистого афеизма», то есть безбожия. Власти рассчитывали, что здесь в глухой деревне, поэт будет сломлен, а его вольнолюбивая поэзия, наконец, приглушена.
Пушкин приехал в Михайловское, минуя Псков, где он, согласно предписанию, должен был явиться к губернатору. Однако поэта затребовали в Псков, и с него была взята губернатором подписка в том, что он обязуется «жить безотлучно в поместье родителя своего, вести себя благонравно, не заниматься никакими неприличными сочинениями и суждениями, предосудительными и вредными общественной жизни, и не распространять оных никуда».
Новая ссылка была для Пушкина тяжелым наказанием. П. А. Вяземский в письме к А. И. Тургеневу 13 августа 1824 года так писал по этому поводу: «Как можно такими крутыми мерами поддразнивать и вызывать отчаяние человека! Кто творец этого бесчеловечного убийства? Или не убийство — заточить пылкого юношу в деревне русской?.. Неужели в столицах нет людей более виновных Пушкина? Сколько вижу из них обрызганных грязью и кровью!.. Да и постигают ли те, которые вовлекли власть в эту меру, что есть ссылка в деревне на Руси? Должно точно быть богатырем духовным, чтобы устоять против этой пытки. Страшусь за Пушкина… Признаюсь, я не иначе смотрю на ссылку как на смертельный удар, что нанесли ему».
Сосланный в глухую деревню на неопределенный срок, оторванный от друзей, от общества, отданный под унизительный надзор местных полицейских и духовных властей, поэт чувствовал себя в первые недели ссылки, как в тюрьме.
…Слезы, муки,
Измены, клевета, всё на главу мою Обрушилося вдруг… Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,
И всё передо мной затмилося!..
<гЖелание славы»
Новая опала, продолжая четырехлетнюю южную ссылку, тяжело подействовала на поэта. С горечью и резкостью писал он в начале михайловской ссылки в стихотворном послании к Н. М. Языкову:
Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье;
Уснув, не знаю, где проснусь.
Всегда гоним, теперь в изгнанье Влачу закованные дни.
<гК Языкову»
Эти «закованные дни» стали для поэта особенно невыносимы в начале ссылки в силу одного обстоятельства. Приехав в Михайловское, Пушкин застает здесь всю семью. И отец поэта, напуганный новыми репрессиями против старшего сына, соглашается выполнять необычное поручение властей в лице уездного предводителя дворянства А. Н. Пещурова: вести «неослабный надзор за поступками и поведением сына».
«Посуди о моем положении, — с возмущением и обидой писал Пушкин В. А. Жуковскому 31 октября 1824 года. — Приехав сюда, был я всеми встречен как нельзя лучше, но скоро все переменилось: отец, испуганный моей ссылкою, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь; Пещуров, назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче — быть моим шпионом… Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие… Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем… Я вне закона».
Ссоры отца с сыном обострились настолько, что поэт в порыве отчаяния пишет псковскому
губернатору Адеркасу просьбу о переводе его даже в царскую тюрьму. Нарочный, с которым было послано в Псков это прошение, не застал губернатора и вернулся обратно, а затем дружеское вмешательство соседки по имению П. А. Осиповой и Жуковского предотвратили этот шаг.
Сам поэт в это время почти не бывает дома, предпочитая длительные прогулки по окрестностям и общество тригорских знакомых.
Заточение в глухую деревню после шумной Одессы на первых порах породило у него «бешенство скуки», снедающей его «нелепое существование». «Вы хотите знать его, это нелепое существование, — писал он в Одессу В. Ф. Вяземской в конце октября 1824 года, — то, что я предвидел, сбылось. Пребывание среди семьи только усугубило мои огорчения, и без того достаточно существенные. Меня попрекают моей ссылкой; считают себя вовлеченными в мое несчастье; утверждают, будто я проповедую атеизм сестре… и брату… Мой отец имел слабость согласиться на выполнение обязанностей, которые, во всех обстоятельствах, поставили его в ложное положение по отношению ко мне; вследствие этого все то время, что я не в постели, я провожу верхом в полях. Все, что напоминает мне море, наводит на меня грусть — журчание ручья причиняет мне боль в буквальном смысле слова — думаю, что голубое небо заставило бы меня плакать от бешенства; но, славу богу, небо у нас сивое, а луна точная репка».
Теперь даже очарование здешней природы, которую он любил и которой восторгался в первые приезды сюда, в какой-то мере померкло для него.
И потребовалось некоторое время, чтобы поэт смог снова увидеть и еще глубже почувствовать ее обаяние, а также трезво оценить и положительную сторону вынужденного одиночества: возможность для поэтического творчества, для еще более тесного знакомства, перешедшего потом в дружбу, с Осиповыми-Вульф из Тригорско-
го, которое всего через несколько месяцев после приезда в ссылку становится вторым домом опального поэта.
В первой половине ноября 1824 года из Михайловского уехал брат поэта Лев и сестра Ольга Сергеевна, а через некоторое время покинули деревню и родители. Отъезд семьи разрядил грозовую обстановку в михайловском доме. «Скажи моему гению-хранителю, моему Жуковскому, — писал поэт брату в письме в двадцатых числах ноября, — что, слава богу, все кончено. Письмо мое к Адеркасу у меня, наши, думаю, доехали, а я жив и здоров».
Теперь, когда «буря успокоилась», поэт больше стал домоседом. «Милая Оля, — писал он сестре, — благодарю за письмо, ты очень мила, и я тебя очень люблю, хоть этому ты и не веришь… Твои троегорские приятельницы несносные дуры, кроме матери. Я у них редко. Сижу дома да жду зимы». Поэту предстояло провести здесь многие месяцы михайловского изгнания.