К столовой примыкает последняя комната — кабинет Пушкина. Обстановка кабинета воспроизведена такой же, какой она была при жизни поэта в михайловской ссылке. Вот что представлял собой кабинет Пушкина по воспоминаниям современников. «Комната Александра, — пишет И. И. Пущин, — была возле крыльца с окном на двор, через которое он увидел меня, заслышав колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, диван, шкаф с книгами и пр. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда, с самого Лицея, писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах). Вход к нему прямо из коридора».
Е. И. Осипова (в замужестве Фок) свидетельствует: «Я сама, еще девочкой, не раз бывала у него в имении и видела комнату, где он писал. …Комнатка Александра Сергеевича была маленькая, жалкая. Стояли в ней всего-навсего простая кровать деревянная с двумя подушками, одна кожаная, и валялся на ней халат, а стол был ломберный, ободранный: на нем он и писал и не из чернильницы, а из помадной банки».
Ее сестра М. И. Осипова рассказывала: «Вся обстановка комнаток Михайловского домика была очень скромна: в правой, в три окна комнате, где был рабочий кабинет А. С-ча стояла самая простая, деревянная, сломанная кровать. Вместо одной ножки под нее поставлено было полено: некрашеный стол, два стула и полки с книгами довершали убранство этой комнаты».
Таким же скромным и непритязательным выглядит кабинет поэта и сейчас. В центре небольшой комнаты стоит письменный стол, покрытый зеленым сукном. На нем стопки книг, листы, исписанные стремительным почерком поэта. Рядом с подсвечником на четыре рожка ножницы для снимания нагара со свечей, в металлическом
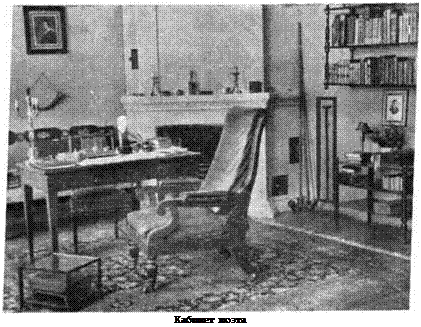 |
стакане гусиные перья, рядом с чернильницей песочница. Между окнами наполненный книгами шкаф, на противоположной стене висит полочка, также заставленная книгами.
Пожалуй, книги были в этом скромном жилище единственным богатством. «Книг, ради бога книг!» — восклицает поэт в одном из писем к брату, и потом эти просьбы он адресует ему и многим своим друзьям и знакомым чуть ли не в каждом письме, писанном им из михайловского заточения (за два года ссылки он отсылает отсюда более ста двадцати писем и около шестидесяти получает от своих адресатов). По свидетельству первого биографа поэта П. В. Анненкова, «библиотека его росла уже по часам, каждую почту присылали ему книги из Петербурга».
За время михайловской ссылки поэт прошел своеобразный домашний университет: он, полу-
чая много книг, с упоением и без устали занимается самообразованием. Он всегда живо интересовался и прекрасно разбирался в сложных и подчас новых вопросах политики, искусства, литературной жизни, философии и истории того времени. По окончании ссылки Пушкин проявил много заботы, чтобы доставить книги из деревни к себе домой; перевозили их в двадцати четырех ящиках на двенадцати телегах.
В кабинете поэта напротив письменного стола, у стены, стоит диван, у противоложной стены — деревянная кровать с пологом. Неподалеку от дивана, в углу, — туалетный столик, в другом углу, у камина, на полу — огромные трубки с чубуками для курения. На полу большой, почти во всю комнату ковер. Все эти вещи являются или копией пушкинских, или вещами той эпохи, типичными для дворянского поместного быта. Из подлинных пушкинских вещей в кабинете поэта сейчас хранится железная трость — частая спутница его прогулок по окрестностям Михайловского.
Михайловский кучер поэта Петр Парфенов рассказывал: «Палка у него завсегда железная в руках, девять фунтов весу; уйдет в поля, палку вверх бросит, ловит ее на лету».
На диване в его кабинете лежит пистолет точно такого же образца, из которого поэт упражнялся в стрельбе. Тут же рядом старинный манежный хлыст для верховой езды — такой же был у Пушкина, много ездившего по окрестностям верхом на «вороном аргамаке». Тот же П. Парфенов свидетельствует: «…потом сейчас на лошадь и гоняет тут по лугу; лошадь взмылит и пойдет к себе». А в одном из писем к Вяземскому из ссылки Пушкин выразительно пишет о своих наезднических увлечениях: «Пишу тебе в гостях с разбитой рукой — упал на льду не с лошади, а с лошадью: большая разница для моего наезднического честолюбия». Брата же своего в числе других поручений он просит прислать ему в Михайловское «книгу об верховой езде — хочу же-
ребцов выезжать: вольное подражание Alfieri и Байрону».
А. Н. Вульф оставил любопытное свидетельство об увлечениях ссыльного поэта стрельбой из пистолета: «…Пушкин, по крайней мере в те года, когда жил здесь, в деревне, решительно был помешан на Байроне… А чтобы сравняться с Байроном в меткости стрельбы, Пушкин вместе со мною сажал пули в звезду над нашими воротами».
Не раз поэт приглашает к себе в деревню Вульфа
…Погулять верхом порой,
Пострелять из пистолета.
«Из письма к Вульфу» (Здравствуй, Вульф, приятель мой!)
В эти годы Пушкин действительно сильно увлекался Байроном и всегда держал при себе его портрет, которым очень дорожил. Портрет этот сохранился, и сейчас висит в кабинете поэта над диваном. На обороте портрета надпись (по-французски), сделанная рукой П. А. Осиповой: «Подарено Аннет Вульф Александром Пушкиным. Тригорское, 1828». Увлечение Байроном прошло, и поэт подарил некогда дорогую для себя вещь своей тригорской приятельнице.
Под книжной полкой, висящей на стене, на полу стоит небольшая деревянная этажерка. Она была увезена сыном поэта в Вильнюс, где и была обнаружена на чердаке его дома (ныне музея А. С. Пушкина).
У письменного стола, на полу, в стеклянном футляре, хранится еще одна реликвия, связанная с Пушкиным, — подножная скамеечка А. П. Керн. Скамеечка маленькая, низенькая, обита выцветшим от времени светло-коричневым бархатом. Анна Петровна в воспоминаниях о Пушкине упоминает об этой скамеечке:
«Несколько дней спустя он (Пушкин) приехал ко мне вечером и, усевшись на маленькой скамеечке (которая хранится у меня, как святыня), написал на какой-то записке:
Я ехал к вам: живые сны За мной вились толпой игривой,
И месяц с правой стороны Осеребрял мой бег ретивый».
У письменного стола старинное кожаное кресло с высокой откидывающейся спинкой. Это кресло из собрания тригорских вещей. Оно было подарено Дому-музею А. С. Пушкина весной 1964 года родственниками Осиповых-Вульф. Кресло это — точная копия (к тому же старинная) пушкинского кресла.
На этажерке огромная черная книга — Библия. Пушкин предназначал ее больше для игумена Святогорского монастыря, под духовным надзором которого он находился в период ссылки. Библия была своего рода «дымовой завесой». Еще накануне михайловской ссылки он в одном письме довольно определенно высказал свое отношение к Библии: «…читая Шекспира и Библию, святой дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гёте и Шекспира».
Гостивший у ссыльного поэта И. И. Пущин рисует в своих «Записках» характерный эпизод о том, как Пушкин в нужных случаях ловко использовал эту «дымовую завесу»: «Я привез Пушкину в подарок «Горе от ума»… После обеда, за чашкой кофе, он начал читать ее вслух… Среди этого чтения кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин взглянул в окно, как будто смутился и торопливо раскрыл лежавшую на столе Четью-Минею. Заметив его смущение и не подозревая причины, я спросил его: «Что это значит?» Не успел он ответить, как вошел в комнату низенький рыжеватый монах и рекомендовался мне настоятелем соседнего монастыря. Я подошел под благословение. Пушкин — тоже, прося его сесть. Монах начал извинением в том, что, может быть, помешал
нам, потом сказал, что, узнавши мою фамилию, ожидал найти знакомого ему П. С. Пущина, уроженца великолуцкого, которого очень давно не видел. Ясно было, что настоятелю донесли о моем приезде и что монах хитрит. Хотя посещение его было вовсе не кстати, но я все-таки хотел делать веселую мину при плохой игре и старался уверить его в противном: объяснил ему, что я — Пущин такой-то, лицейский товарищ хозяина… Разговор завязался о том, о сем. Между тем подали чай. Пушкин спросил рому, до которого, видно, монах был охотник. Он выпил два стакана чаю, не забывая о роме, и после этого начал прощаться, извиняясь снова, что прервал нашу товарищескую беседу.
Я был рад, что мы избавились от этого гостя, но мне неловко было за Пушкина: он, как школьник, присмирел при появлении настоятеля. Я ему высказал мою досаду, что накликал это посещение. — Перестань, любезный друг! Ведь он и без того бывает у меня, я поручен его наблюдению. Что говорить об этом вздоре!
Тут Пушкин, как ни в чем не бывало, продолжал читать комедию».
Рядом с книжной этажеркой на стене висит портрет В. А. Жуковского — копия того портрета, который Жуковский подарил Пушкину, надписав: «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму Руслан и Людмила. 1820 марта 26». Этим подарком Пушкин дорожил и всегда держал его при себе.
Над диваном на стене на металлической цепочке подвешен старинный медный охотничий рог. Такой же рог был подарен ссыльному поэту одним из соседей-помещиков, о чем свидетельствует А. П. Керн: «Вообще же надо сказать, что он (Пушкин) не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренне и был неописанно хорош, когда что-нибудь приятное волновало его… Так, один раз мы восхищались его тихой радостью, когда он получил от какого-то поме-
щика при любезном письме охотничий рог на бронзовой цепочке, который ему нравился. Читая это письмо и любуясь рогом, он сиял удовольствием и повторял: Charmant! Charmant!»
В левом, противоположном от окон углу кабинета камин. Он облицован белыми изразцами; в камине на металлической решетке — поддувале лежат каминные щипцы с длинными ручками и горка погасших углей: будто только вот сейчас поэт сидел около него:
Пылай, камин, в моей пустынной келье;
А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук.
«19 октября»
На выступе камина, рядом с расшитыми цветным бисером табакеркой и шкатулкой, небольшая фигурка Наполеона со сложенными крест — накрест руками и нахмуренным лицом. Скульптура французского императора была почти обязательной принадлежностью кабинета либерального дворянина того времени. О ней упоминает Пушкин и в описании деревенского кабинета Евгения Онегина, во многом, несомненно, «списанного» с собственного деревенского кабинета:
Татьяна взором умиленным Вокруг себя на всё глядит,
И всё ей кажется бесценным,
Всё душу томную живит Полумучительной отрадой:
И стол с померкшею лампадой,
И груда книг, и под окном Кровать, покрытая ковром,
И вид в окно сквозь сумрак лунный,
И этот бледный полусвет,
И лорда Байрона портрет,
И столбик с куклою чугунной Под шляпой с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.
На письменном столе «померкшая лампада» — дорожная металлическая лампа (в копии, подлинная лампа Пушкина находится во Всесоюзном музее А. С. Пушкина в Ленинграде),
которой поэт запасся (ее прислал ему брат), готовясь к побегу из ссылки за границу. Для этой же цели он держал при себе дорожную чернильницу (точно такая же — на письменном столе в его кабинете), а в одном из писем даже просит брата прислать ему «дорожный чемодан» и сапоги. О бегстве за границу Пушкин подумывал еще в пору южной ссылки, и это нашло отражение в строках I главы «Евгения Онегина». Новая ссылка в псковскую деревню еще более подогревала стремление поэта вырваться из заточения путем бегства за границу, облекаясь уже в конкретные планы. Сначала он собирался бежать с помощью брата и А. Н. Вульфа, и уже настолько уверился в осуществлении этого плана, что пишет стихотворение «Презрев и голос укоризны» (октябрь— ноябрь 1824 года), где явственно звучат ноты прощания с «отчизной»:
Презрев и голос укоризны,
И зовы сладостных надежд,
Иду в чужбине прах отчизны С дорожных отряхнуть одежд.
…Простите, сумрачные сени,
Где дни мои текли в тиши,
Исполнены страстей и лени И снов задумчивых души.
Мой брат, в опасный день разлуки Все думы сердца — о тебе.
В последний раз сожмем же руки И покоримся мы судьбе.
Благослови побег поэта…
Ни с братом, ни с Вульфом поэту бежать не удалось.
В течение нескольких месяцев Пушкин не оставлял попыток избавиться от ссылки и уехать за границу под предлогом лечения своей болезни — аневризма. Но и эти планы не осуществились.
Несмотря на частые приступы хандры и тоски, рождаемые неопределенностью своего положения, опальный поэт интенсивно работает. Никогда еще раньше «приют свободного поэта, непокоренного судьбой» (Н. М. Языков) не ви-
дел такого вдохновенного, обширного, отмеченного печатью гениальности творчества.
Здесь, в псковской деревне, в его кабинете
Какой-то демон обладал Моими играми, досугом;
За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал,
И тяжким, пламенным недугом Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались;
В размеры стройные стекались Мои послушные слова И звонкой рифмой замыкались.
<гРазговор книгопродавца с поэтом»
Этим «демоном» ссыльного поэта была поэзия, напряженный поэтический труд, он в это время «бредит» рифмами и «рифмами томим».
В самый разгар михайловской ссылки, в июле 1825 года, Пушкин пишет в письме к Вяземскому: «Я предпринял такой литературный подвиг, за который ты меня расцелуешь: романтическую трагедию!» Эти слова, сказанные по поводу работы над «Борисом Годуновым», можно отнести ко всему михайловскому периоду творчества Пушкина. Это был литературный подвиг, сделавший его глубоко национальным поэтом, родоначальником новой реалистической литературы. И действительно, окончив в Михайловском последнюю поэму из романтического цикла «Цыга — ны», поэт создает потом десятки глубоко реалистических произведений, а всего в Михайловском он написал их более ста. Именно здесь, в Михайловском, он «присмотрелся к русской природе и жизни, и нашел, что в них есть много истинно хорошего и поэтического. Очарованный сам этим открытием, он принялся за изображение действительности, и толпа с восторгом приняла эти дивные издания, в которых ей слышалось так много своего, знакомого, что давно она видела, но в чем никогда не подозревала столько поэтической прелести» (Н. А. Добролюбов).
Одним из таких изданий, подготовленных поэтом в ссылке со всей тщательностью и завид-
ной требовательностью к своему таланту, было издание «Стихотворений Александра Пушкина», которое разошлось с невиданной для того времени быстротой: «Стихотворения» вышли в свет 30 декабря 1825 года, и уже 27 февраля 1826 года П. А. Плетнев, поверенный ссыльного поэта по издательским его делам, писал ему в Михайловское: «Стихотворений Александра Пушкина»
у меня уже нет ни единого экземпляра, с чем его и поздравляю. Важнее того, что между книгопродавцами началась война, когда они узнали, что нельзя больше от меня ничего получить».
Выдающимся «литературным подарком» и «в высшей степени народным произведением», по словам Белинского, явился гениальный роман в стихах «Евгений Онегин», центральные главы которого (с конца третьей по начало седьмой) писались поэтом в Михайловском. Уже в первые недели ссылки он в письме к В. Ф. Вяземской признавался, что находится «в наилучших условиях, чтобы закончить мой роман в стихах». Этими «наилучшими условиями» было не только уединение, хотя и вынужденное, тем не менее концентрирующее его поэтический труд, но и непосредственная близость к окружающей действительности: к помещичьему усадебному быту,
к крестьянскому быту, к родной русской природе, к русскому народу с его высокопоэтическим фольклором. И не случайно в созданных в Михайловском «деревенских главах» «Евгения Онегина» так много поэтических «зарисовок» здешнего быта, здешнего пейзажа, причем при всей, казалось бы, конкретности всегда чувствуешь его общерусскую широту, его типичность.
В плане романа «Евгений Онегин», составленном Пушкиным и разбитым им на три части, он в части второй написал: «IV песнь. Деревня Михайлов. 1825». А если вспомнить любопытное откровение Пушкина Вяземскому в письме от 27 мая 1826 года: «в IV песне Онегина я изобразил свою жизнь», — то можно говорить об инте-
ресных деталях деревенского бытия самого опального поэта, изображенных в IV главе романа. Вот его «вседневные занятия»:
Онегин жил анахоретом;
В седьмом часу вставал он летом И отправлялся налегке К бегущей под горой реке;
Певцу Гюльнары подражая,
Сей Геллеспонт переплывал,
Потом свой кофе выпивал,
Плохой журнал перебирая,
И одевался…
Прогулки, чтенье, сон глубокий,
Лесная тень, журчанье струн,
Порой белянки черноокой Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина:
Вот жизнь Онегина святая…
Когда же приходит зима, то
Прямым Онегин Чильд Гарольдом Вдался в задумчивую лень:
Со сна садится в ванну со льдом…
Брат поэта Лев Сергеевич, который сам был свидетелем первых недель его ссыльной жизни, а потом получал подробнейшие сведения о ней от самого Пушкина (в письмах), от навещавших его друзей, от тригорских приятелей и даже от своих дворовых, ездивших в Петербург за припасами, рассказывает о деревенской жизни Пушкина: «С соседями Пушкин не знакомился… В досуж — ное время он в течение дня много ходил и ездил верхом, а вечером любил слушать русские сказки. Вообще образ его жизни довольно походил на деревенскую жизнь Онегина. Зимою он, проснувшись, также садился в ванну со льдом, летом отправлялся к бегущей под горой реке, также играл в два шара на бильярде, также обедал поздно и довольно прихотливо. Вообще он любил придавать своим героям собственные вкусы и
привычки». А в рукописи IV главы романа есть описание, не включенное Пушкиным в поздние редакции, деревенского костюма Онегина:
Носил он русскую рубашку,
Платок шелковый кушаком,
Армяк татарский нараспашку И шляпу с кровлею, как дом Подвижный. Сим убором чудным, Безнравственным и безрассудным.
Была весьма огорчена Псковская дама Дурина И с ней Мизинчиков. Евгений,
Быть может, толки презирал,
А вероятно, их не знал,
Но все ж своих обыкновений Не изменил в угоду им.
За что был ближним нестерпим.
В таком наряде соседи частенько видели и Пушкина. М. И. Семевский передает рассказ А. Н. Вульфа, встретившего однажды поэта в таком наряде: «…в девятую пятницу после пасхи
Пушкин вышел на Святогорскую ярмарку в русской красной рубахе, подпоясанный ремнем, с палкой и в корневой шляпе, привезенной им еще из Одессы. Весь новоржевский beau monde, съезжавшийся на эту ярмарку закупать чай, сахар, вино, увидя Пушкина в таком костюме, весьма был этим скандализирован…»
Известно, что поэт в годы ссылки избегал соседей (за исключением Тригорского), не участвовал в различных забавах, охоте, пирушках деревенских помещиков. Об этом говорят многие свидетельства, в том числе и крестьянина И. Павлова: «…жил он один, с господами не вязался, на охоту с ними не ходил…» Пушкин сам ощущал огромную разницу своих интересов и интересов соседей-помещиков. Он прежде всего поэт, и главное для него в жизни — поэзия:
…У всякого своя охота,
Своя любимая забота:
Кто целит в уток из ружья,
Кто бредит рифмами, как я…
«Евгений Онегин ». Из ранних редакций
Ы
А какими были’ в своей массе поместные дворяне, Пушкин хорошо знал, так как мог часто наблюдать их уклад жизни, привычки. В V главе «Онегина», в сцене сбора гостей на бал к Лариным, он дает меткую реалистическую характеристику деревенских помещиков.
С своей супругою дородной Приехал толстый Пустяков;
Гвоздин, хозяин превосходный,
Владелец нищих мужиков;
Скотинины, чета седая,
С детьми всех возрастов, считая От тридцати до двух годов;
Уездный франтик Петушков,
Мой брат двоюродный, Буянов В пуху, в картузе с козырьком (Как вам, конечно, он знаком),
И отставной советник Флянов,
Тяжелый сплетник, старый плут,
Обжора, взяточник и шут.
Глубокое проникновение Пушкина в быт, нравы, психологию тогдашнего общества (прежде всего на жизненном материале михайловского бытия поэта) и позволило создать роман «Евгений Онегин», который «…помимо неувядаемой его красоты, имеет для нас цену исторического документа, более точно и правдиво рисующего эпоху, чем до сего дня воспроизводят десятки толстых книг» (А. М. Горький).
В ссылке же поэт «в два утра» пишет сатирическую поэму «Граф Нулин», в основе которой лежит «происшествие, подобное тому, которое случилось, недавно в моем соседстве, в Новоржевском уезде» (Пушкин).
Не может не вызвать восхищения неукротимый оптимизм Пушкина, который, находясь под надзором властей, не зная еще о своей завтрашней судьбе, создает здесь одно из самых светлых, жизнерадостных произведений — «Вакхическую песню», пронизанную верой в торжество сил человеческого разума, сил света, добра над силами зла и тьмы:
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
Эту веру в светлое будущее опальный поэт черпал в поэтическом творчестве:
Но здесь меня таинственным щитом Святое провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.
* Вновь я посетил». Из черновой редакции
Творческий взлет Пушкина за время михайловской ссылки был таким стремительным и отличался такой поэтической зрелостью, что сразу же бросался в глаза, особенно тем, кто мог сравнивать Пушкина до ссылки с Пушкиным в пору ссылки и сразу после нее.
Любопытное сопоставление между Пушкиным «деревенским» и «столичным» делает А. П. Керн: «С Пушкиным я опять увиделась в Петербурге, в доме его родителей, где я бывала всякий день и куда он приехал из ссылки в 1827 году, прожив в Москве несколько месяцев. Он был тогда весел, но чего-то ему недоставало. Он как будто не был так доволен собой и другими, как в Тригорском и Михайловском. Я полагаю, жизнь в Михайловском много содействовала развитию его гения. Там, в тиши уединения, созрела его поэзия, сосредоточились мысли, душа окрепла и осмыслялась».
«Нового» Пушкина с возмужавшим в ссылке талантом увидел и Вяземский, который в письме от 29 сентября 1826 года (то есть сразу же после освобождения поэта из ссылки) писал А. И. Тургеневу и В. А. Жуковскому: «Пушкин читал мне своего «Бориса Годунова». Зрелое и возвышенное произведение. Трагедия ли это, или более историческая картина, об этом пока не скажу ни слова: надобно вслушаться в нее, вникнуть… но
дело в том, что историческая верность нравов, языка, поэтических красок сохранена в совершенстве, что ум Пушкина развернулся не на шутку, что мысли его созрели, душа прояснилась, и что он в этом творении вознесся до высоты, которой еще не достигал.
Следующие песни «Онегина» также далеко ушли от первой».
Брат поэта Лев Сергеевич также отмечает решающие перемены, происшедшие в его творчестве в михайловской ссылке: «Перемена ли образа жизни, естественный ли ход усовершенствования, но дело в том, что в сем уединении талант его видимо окрепнул и, если можно так выразиться, освоеобразился. С этого времени все его сочинения получили печать зрелости».
А сам поэт, который всегда относился к своему дарованию и своим поэтическим достоинствам подчеркнуто строго, пишет Н. Н. Раевскому из Михайловского в июле 1825 года, то есть в самый «разгар» ссылки: «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить».
Этот творческий подъем он сам вспоминал вскоре после освобождения из Михайловского, оглядываясь на покинутую деревню и призывая вдохновение в новых условиях, в новой обстановке «не дать остыть душе поэта»:
Дай оглянусь. Простите ж, сени,
Где дни мои текли в глуши,
Исполненны страстей и лени И снов задумчивой души.
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта.
Ожесточиться, очерстветь,
И наконец окаменеть В мертвящем упоенье света,
В сем омуте, где с вами я Купаюсь, милые друзья!
<• Евгений Онегин»
Не забывал он в «омуте» столичной жизни и своей любимой няни, ее «светлицы» — скромной крестьянской комнатки при господской баньке, которую в ее память называют теперь домиком няни.
